![]() В зимовнике всегда было прохладно и сухо. Запах воска перемежался с терпким полынным духом и крепким куревом дымаря. Саманные стены дедушка украшал рамками собственного изготовления. На полках лежали похожие на домашний сыр жирные восковые лепешки, переливающаяся янтарем вощина, нехитрый столярный инструмент.
В зимовнике всегда было прохладно и сухо. Запах воска перемежался с терпким полынным духом и крепким куревом дымаря. Саманные стены дедушка украшал рамками собственного изготовления. На полках лежали похожие на домашний сыр жирные восковые лепешки, переливающаяся янтарем вощина, нехитрый столярный инструмент.
Из-под соломенной крыши свисали мотки подобранной на большаке алюминиевой проволоки, кирзовые сапоги (подарок зятьев), старые велосипедные цепи, несколько сшитых из старых пододеяльников пчелиных масок, хомут, тележная дуга и вожжи. На земляном полу тесно жались кадка с подсолнухами, ларь с пшеницей, сорокалитровые молочные фляги для меда, а к ним впритык — медогонка. Когда дед расчехлял ее, то делал это особенно торжественно. Бережно стаскивал мешковину, протирал бока, вхолостую прокручивал центрифугу, проверяя, хорошо ли вертится.
На пасеку к ульям меня не брали. Да и сам я не хотел — боязно. Особенно в роевую пору или когда дед задумывал провести очередную ревизию на пасеке или отбирал мед. Пчелы тогда начинали беситься и жалить. Страшно гудели на подлете, с разгона ввинчивались в волосы, отчаянно бились о затылок, наводя страшную панику и заставляя, что есть мочи, стучать руками по голове. Тщетно, пчела, извернувшись в конце концов жалила куда-нибудь в шею. И после этого ее надо было аккуратно, не раздавив, снять и откинуть в сторону. Иначе на запах могла подлететь еще одна и вступиться за свою сестру.
У деда было все гораздо проще. Пчелы его, конечно, тоже жалили (помню, как он клал свои вздутые жилистые руки на стол, садясь обедать), но дедушка не обращал на это внимания. Стоит, бывало, над открытым ульем: сетка поднята, руки голые. Одна пчела его цап! Он ее — за крылья и в сторону, другая ужалит — ее туда же. И глазом не моргнет, пыхнет дымарем для порядка и продолжает возиться.
Я со страхом причитал, наблюдая за происходящим из зарослей малины, плотно опоясывающих нашу пасеку: «Дедушка, больно же! Рукавицы бы хоть надел».
«Да ну, ничего, — утешал дед, — токо ж полетают и все...»
А, как мед качать — я тут как тут, но из зимовника предпочитал не высовываться. Будто на передовую, уходил на пасеку дядя Петя и возвращался с полными рамками и пожаленными руками. Это было его единственное уязвимое место. В отличие от меня он был полностью лысый и не носил, как дед, курчавой бороды. Добытую дядей Петей рамку опускали в просторное чрево медогонки и раскручивали. Под действием центробежных сил мед вылетал из сотов на стенки, сползал на дно и копился там золотистой, тягучей массой перед отправкой в пузатую сорокалитровую флягу.
Когда наполнившийся медом агрегат опрокидывали, наступал мой черед. Мне поручали следить за тем, чтобы тягучая медовая струя попадала точно в цель. Для этого выдавали ложку, которую я успешно заменял пальцем. В финале, когда янтарная струйка истончалась до золотистой нити, и медогонку вновь опрокидывали с головы на ноги, на ее краях продолжала нависать драгоценная сладость, спасти которую можно было, только облизав их. Я и облизывал. Клал ставшую неудобной ложку на стол и, обводя указательным пальцем липкие края медогонки, утилизировал отходы, быстро отправляя их в рот. Задача казалась непосильной. Уже на первой партии понимал, что катастрофически не справляюсь, требуется подмога. Рот сводило от приторной сладости. В животе все слипалось. С тоской смотрел я на пожаленных, но бодрых деда с дядей Петей. Они и не думали заканчивать. Мед лился рекой. Это меня и «сгубило»...
С тех пор я все равно не прекращаю любить мед. Он пахнет дедовым зимовником, сотами, свежеструганными рейками, соломой, сыромятной кожей для хомутов и высоким степным небом, где подолгу трепетали жаворонки, когда под Жердевкой буйно цвела гречиха...
А.МЕЛЬНИКОВ
г. Калуга
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ

Шмели в городе
нояб 20, 2014
Четыре правила подготовки семей к зимовк…
окт 1, 2015
Зрелые маточники при формировании отводк…
янв 15, 2015
Ящики-привои
июнь 15, 2017
Защита печени продуктами пчел…
окт 11, 2021
Что превращает оплодотворенное яйцо в ма…
июль 30, 2014
Новые методики решения задач пчеловодств…
сен 23, 2015
Водяная воскотопка-воскопресс…
март 19, 2020
Влияние различных факторов на устойчивос…
июнь 19, 2014
Комбинированный улей
янв 24, 2022
Вопросы по законодательству (4)…
фев 8, 2015
Исследование опасности пестицидов для пч…
июнь 4, 2017
Зимовка пчел
янв 8, 2020
Мой опыт содержания карпатских пчел…
мая 15, 2021
Откажемся от лекарств
фев 5, 2015











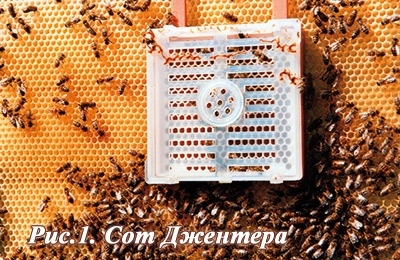
 Адрес редакции журнала "Пчеловодство":
Адрес редакции журнала "Пчеловодство":



